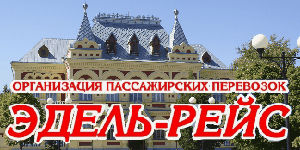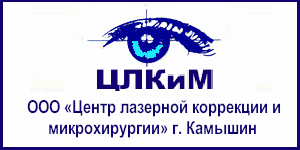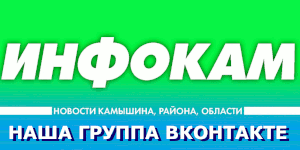Читаю Сергея Орешкина и удивляюсь: как же всё точно, до чего же он прав!
Я — его ровесник, и мы прошли с ним один путь. Это путь романтиков, искателей и ниспровергателей, уверенных в своих силах.
Однако я взялся за неблагодарное и трудное дело: говорить прозой о стихах... Но я не могу не поделиться впечатлением от чтения этого чародея!
Сборник его стихов под таким удачным названием «Зарифмованная душа» говорит, прежде всего, о нашей России, о нас, живущих в ней и отвечающих за неё перед потомками. Он вышел очень малым тиражом и тем более достоин, чтобы о нём знала более широкая публика.
Да, «двадцатый век принадлежит России, как путнику его корявый посох», и я в этом «корявом посохе» вижу всю историю человечества в прошлом веке. Именно мы, русские люди, довели до логического завершения идеи социалистов-утопистов о рае на земле, но без Бога. Довели и сами ужаснулись делам своим — «недовольных стало больше», а сколько кровушки пролили своей, не чужеземной.
«Если брат идет на брата, Если дети — на отца, Правых нет и виноватых, …есть мишени для свинца», — горько подмечает Сергей Орешкин.
Красивые идеи равенства и справедливости в применении к жизни вылились в грабеж, изящно закамуфлированный ленинским лозунгом «экспроприация экспроприаторов», что в переводе на русский означает: грабь награбленное. И саму мораль подчинили интересам насилия одной группы людей над другой, назвав их классами.
Об истории двадцатого века написано уже много, и еще больше будет написано научных трудов и исследований. Долгое время мы жили во времена четких формулировок, ясных понятий и верных или неверных дорог. Была такая программная статья М. Горького «Если враг не сдается, его уничтожают!», написанная в начале 30-х годов. Но всё дело в том, что историки — это тоже живые люди с их интересами и пристрастиями. Поэтому они всегда необъективны.
Другое дело люди искусства — художники, писатели, поэты, которые не могут лгать по определению, ведь если они сфальшивят против своей души, то произведение не дойдет до души аудитории и просто не запомнится. К счастью, Сергей Орешкин — Художник слова, его строчки живут чувством, и поэтому ему веришь.
В народе батюшку любили,
При встрече с ним крестили лоб,
Пока чекисты не убили.
За что? А так. За то, что поп.
Вспоминается эпизод из одного рассказа о раскулачивании крестьян, когда председатель комитета бедноты, выселявший богатого крестьянина зимой из дома в ссылку вместе с женой и детьми, позавидовал красивым белым валеночкам на ногах их пятилетней дочки. Позавидовав и подумав, что они его сыну, Петьке, как раз бы подошли... Он догнал сани и на лютом морозе под истошные крики матери снял-таки с девочки эти валенки.
Припадите на коленцы!
И молитесь… в судный час.
Убиенные младенцы
Может, вступятся за нас…
Так взывает автор в одном стихотворении из цикла «Двадцатый век». Вот эти валеночки и аукались потом в годы сталинских репрессий массовыми доносами и враждой. Всё это было, через всё это мы прошли, и только общая беда — нашествие Гитлера объединила нас снова, укрепила в людях человечность.
Мы победили! И — не спрашивайте какой ценой, тогда не торговались, а вели бои, и не победить было нельзя. Победили, и поколение победителей и их дети стали поколениями романтиков, возмечтавших снова о рае на земле и снова без Бога. Этот рай назвали коммунизмом, и в 1961 году, (кто не знает, тому напомню), на XXII съезде КПСС была принята программа построения коммунизма. Мы все тогда зачеты сдавали по этой программе, чтобы знать, что к какому году будет сделано.
В этой программе очень оптимистично предполагалось, что суть человеческая в процессе создания материально-технической базы коммунизма тоже преобразуется: исчезнут эгоизм, стяжательство, преступность и все другие пороки человеческие, мешающие общей счастливой жизни. Их долго называли пережитками капитализма. И ведь верилось, что так и будет. Конечно, далеко не всем, но многим, и в том числе мне.
В одной из популярных песен того времени говорилось: «Мы верим в завтра, в людей хороших и в небо чистое над головой». Да, все было спланировано, но в реальной жизни оказалось, что эгоизм гораздо глубже сидит в человеке, чем коллективизм, и за 20 лет с этим ничего не сделаешь. А дальше пошло по цепочке: эгоизм — стяжательство — несправедливость (как синоним неправды) — крушение идеалов — нежелание трудиться с полной отдачей — низкая производительность труда — поражение в экономическом соревновании. Здесь я не претендую на истину в последней инстанции, это моя личная версия. У Булата Окуджавы в одной из песен есть слова: «А пряников сладких всегда не хватает на всех». Владимир Высоцкий, видимо, об этом же, надрывно пел: «Парус! Порубали парус! Каюсь, каюсь, каюсь…». Да, в 1917 году порубали парус, такое моё личное мнение, и сейчас еще мы дрейфуем под порванными парусами.
Но, так или иначе, конец двадцатого века опять определялся процессами, идущими в России, нашими так называемыми реформами, распадом великой державы, пересмотром всей системы ценностей наших поколений, глубоким кризисом нравственности, который продолжается и конца которому пока не видно. Сергей Орешкин так сказал об этом времени в 1995 году:
От того знать у Божьей двери
Я стыжусь своего лица,
Что позволил себе ВЕРИТЬ
В безнаказанность подлеца.
И Окуджава, и Высоцкий говорили о человеке, о роли человеческой души на поворотах истории, и не только. Это и является предметом их боли и веры в лучшее. Но мнение Орешкина мне интереснее, ведь он видит сегодняшний день и из него заглядывает в завтрашний. Заглядывает как бы из себя, изучая себя и порой «чувствуя себя как женщина, раздетая прилюдно». И здесь проявляется всё мастерство поэта, его поэтический дар. Легко и непринужденно он говорит о самых сложных вопросах бытия. Вот он вспоминает полузабытое сегодня слово «честь», и стих его становится, как острая рапира, и веришь, что и сам он готов ответить ударом на удар:
К барьеру! Трусы не в чести.
У смельчака не дрогнут брови.
Не важно, сколько будет крови,
А важно – глаз не отвести.
Размышляя о природе Души, о духовном в человеке, он строит догадку о первобытном человеке, впервые разделившем свою еду со своим родичем и улыбнувшемся ему:
Он был не сыт, как и всегда,
Но разделенная еда
Уже питала Дух.
Вспоминая о молодости, он не избегает ностальгии и говорит:
Вовсе были не тесны
Те хрущевские каморки,
Где хранились до весны
Мандариновые корки.
И мне остается только подтвердить, что так это и было.
А вот о женщинах:
Мы плохо знаем их, притвор.
И на пиру, и за делами
Их взор всегда следит за нами,
Чтоб подвести нам приговор.
Получается как-то тепло и талантливо и хочется заучивать наизусть. Хочется продолжать путешествие по страницам сборника и цитировать, цитировать… Но не лучше ли предложить читателю самому окунуться в удивительный мир истинной поэзии. У Орешкина есть две странички на сайте «Стихи ру». Первая была открыта самим автором ещё в 2008 году: http://www.stihi.ru/avtor/oreshkinsi. Вторая появилась после смерти поэта, благодаря известной в Камышине исполнительнице авторской песни Татьяне Наконечной, – человеку, который много сил приложил для популяризации его творчества и сделал возможным издание книги «Зарифмованная душа»: http://www.stihi.ru/avtor/oreshkin2.
Я же попытаюсь разобраться в той гамме чувств, что возникли во мне после прочтения любимой книги.
Прежде всего Сергей Орешкин — Гражданин России. Помните у Н. Некрасова: «А что такое гражданин? — Отечества достойный сын». Его патриотизм выражается в единственно возможной сегодня, на мой взгляд, форме — в стремлении сохранить себя как Человека, сохранить свою Душу, устоять против навязывания нам чуждых ценностей в виде безудержного потребительства, толерантности с её размыванием границ между Добром и Злом, а также низведением любви до уровня секса и других низменных инстинктов.
Обращаясь к непреходящим ценностям человеческой цивилизации, к Любви и Добру, говоря о Боге, Истине, Вечности, Орешкин как бы припадает к чистому роднику, и читатель верит и идет с ним к прекрасному и светлому. Происходит обогащение чистотой, укрепляется иммунитет против пошлости и грязи, против девальвации человеческой души. Примечательно, что автор чувствует себя своим в виртуальном общении с Есениным и Маяковским, и это не выглядит панибратски, не вызывает протеста. Говоря словами Маяковского, Орешкин ощущает, что таковым должно быть «место поэта в рабочем строю» сегодня.
В наше время, когда человеческие души являются мишенями в информационных войнах, а по убеждению русской православной Церкви «мы живем в условиях информационной оккупации», так легко увлечься яркими лозунгами и «идти на баррикады». Или наоборот, разувериться во всем и замкнуться в своей скорлупе, и жить под девизом: «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Поэт признается, что «во мне, как видно, и поныне идет гражданская война» и предостерегает:
Не носите в душах камни,
Постарайтесь быть добрей.
…И не пробуйте штыками
Выбирать себе царей.
Всё это хорошо и правильно, конечно, но как быть в реальной жизни сегодня, когда по его же словам «Много раз топтал чужак Россию, А распяли все-таки свои», когда посягают на самое святое, на нашу духовность, видя и не без основания, что это главная и последняя наша крепость? Полушутя полусерьезно он отвечает: «жму на пульт, пока ещё не поздно Мир от телевизора спасти», но в стихотворении «Предательство» он опять твердо заявляет:
Я разлюбил крутые виражи
Не потому, что стар или менжую.
Теперь я знаю – если ставишь жизнь –
Поставь свою, но никогда – чужую.
И еще одно откровенное на вопрос как быть:
В драку – лезу. Но в бою
Не бываю твердый –
Ни–ког–да людей не бью
О колено мордой.
Вот так легко, без пафоса Сергей Орешкин расставляет опорные точки в жизненных ситуациях, помогает ногам человеческим нащупать твердую почву, чтобы в этом вихре несущегося бытия устоять. Все это создает ощущение уверенности и надежности, что в совокупности зовется запасом прочности. Мне, инженеру, близко это понятие. Думаю, что и читатели его оценят в это неустойчивое время и согласятся с очень скромными словами Сергея Орешкина, «что все же поэты — не последние люди на этой Земле».
20 декабря в 13.00 во втором филиале Центральной городской библиотеки (пер. Московский, д. 11) пройдут «Орешкинские чтения», посвящённые памяти замечательного поэта.