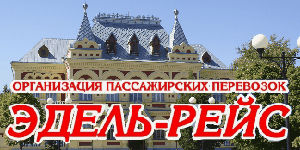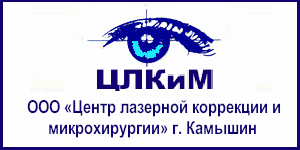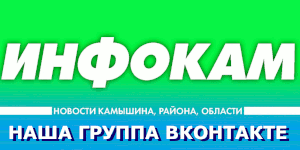Камышин — город, который может по праву гордиться своими сыновьями и дочерьми. Есть среди них врачи, инженеры, художники, актеры… И целые легенды, подобные Герою Советского Союза А. П. Маресьеву.

Сегодня мы публикуем воспоминания о Камышине, которые в бурные революционные годы начала XX века написал руководитель партии эсеров Виктор Чернов. Его имя знала вся Россия, а в январе 1918 года именно ему, когда он был председателем Учредительного собрания, начальник караула Таврического дворца матрос-анархист Железняков по прозвищу Железняк сказал историческую фразу: «Караул устал!». В следующую ночь Учредительное собрание было распущено…
В начале XX века крупные народнические организации объединились в партию социалистов-революционеров (эсеров). Ядро партии составляли учителя, инженеры, агрономы, ветеринары и врачи. К 1905-07 годам численность эсеров составляла уже 50-65 тысяч человек. Ядро партии составляли учителя, инженеры, агрономы, ветеринары и врачи. Одним из основателей партии, членом ЦК, редактором газеты «Революционная Россия» и ведущим теоретиком стал В. М. Чернов.
Детские годы он провел в Камышине и сюда же был сослан за революционную деятельность уже в зрелом возрасте. В 1953 году, через год после смерти Чернова, в Нью-Йорке вышла его книга «Перед бурей. Воспоминания», отрывок из которой, посвященный Камышину, мы публикуем...
...Мой родной город лежал на правом берегу Волги, при впадении в нее обмелевшей реки Камышинки. Еще на памяти старожилов она представляла собой неглубокое, но широкое водное пространство, покрытое густыми зарослями камышей.
Когда-то в них легко укрывались целые гребные флотилийки «удалых добрых молодцев», искавших приюта, освобождения от тягот старой власти и закона, возможности дерзко стать самим себе единственным законом и единственной властью. С миром, от которого оторвались, они были в состоянии непрерывной войны. Подстерегая в укрытии камышей отдельные купеческие суда и целые караваны, они стрелой вылетали на быстрый стрежень, оглашая водные просторы туземным не русским кличем: «сарынь на кичу» (выходи на корму), что означало требование безусловной сдачи на милость нападающих.
Иные камышинские старожилы, следуя ли темным, уже в дни их юности ветхим преданиям, или же давая волю фантазии, брались даже указывать излюбленные места притонов витязей речного абордажа, и сыпали именами Васьки Чалого, Еремы Косолапа, Кузьмы Шалопута... По-своему бесспорен был, однако, лишь западнее Камышина лежавший очень большой курган, в форме сильно усеченной пирамиды, с плоскою и довольно широкою ровною вышкой — такой одинокий и необычайный среди окружающей его со всех сторон степной глади.
Предание связывало его с именем Стеньки Разина; но, надо думать, он был много древнее. Его давно уже собирались раскопать заезжие археологи, но дальше разговоров дело почему то не двигалось. Из этих речей, звучавших важно и авторитетно, сыпались слова — хазары, куманы, уззы. На украдкой прислушивавшихся детей, кажется, речи эти производили больше впечатления, чем на занятых своими делами отцов.
Для нашего слуха особенно сказочно звучало свистящее имя «уззы»; мы их представляли себе всадниками, неразлучными со своими конями, почти что людьми-кентаврами, и мы любили «играть в уззов», взбираясь с помощью конюхов на неоседланных лошадей, которых они водили на берег Волги, на купанье и водопой. Мы наслаждались, учась дико гикать и стараясь придать нашим смирным четвероногим вид полудиких степных летунов.
Волга в моем детстве играла огромную роль, — впоследствии, думая о ней, я не раз мысленно сравнивал ее с тою ролью, которую играла она и в младенчестве самого русского народа. Я рос в значительной мере беспризорным, предприимчивым, своевольным бродягой. Пара весел, лодка, несколько удилищ были моей хартией вольностей. Рыбы я налавливал вдоволь, предаваясь этому занятию с редким фанатизмом и даже, кажется, воображая, что в нем не имею себе равных. Уха выходила у меня крепкая, наварная, костер весело трещал под котелком, а в оставшейся после костра горячей золе свежеиспеченный картофель был слаще всех яств. Но если клев был хороший, то случалось, что об еде я вообще позабывал, и привозил нетронутыми домой все материалы моей незатейливой кухни.
Какое это было счастье — улизнуть из стен скучного, неприютного дома, после сумерек забраться на большую лодку, выехать на середину реки и отдаться на волю ее мощного течения, фантазируя о том, что может быть нас несет как раз сейчас над занесенными речным песком дворцами и гробницами хазарских владык, полными тайн и несметных богатств, о скрытии которых я слышал поразившую мое воображение легенду? А какое чувство невообразимой бодрости вливалось в сердце, когда большой четырехугольный парус выпукло надувался ветром и нес против течения, заставляя мелькать поспешно и убегать куда-то назад берега, деревья, поля, дома, колокольни церквей.
С незапамятных времен мечтательно пели наши старинные протяжные местные песни о том, как «далеко степь за Волгу ушла» и как «в той степи широкой буйна воля жила». Пела и о том, как влюбленный в эту волю «отчий дом покидал, расставался с женой, и за Волгой искал только льготы одной». Укоряла песня и Волгу за то, что уходя в безбрежную даль, что-то в ней ища и находя, ничего из этого не присылала назад: «В тебе простор, в тебе гулять раздолье, а нам тоска, и темь и подневолье»...
Я давно знаю: каждая область имеет свою особую печать, свою собственную неуловимую «душу». В ней живет напоенность прошлым — великого и буйного, или приниженного и скорбного. Мое Поволжье ею было бесконечно богато. Нельзя было без особенного волнения петь старую, суровую песню понизовой вольницы:
Мы не воры, не разбойнички, —
Стеньки Разина мы работнички...
Мы рукой взмахнем — корабель возьмем,
Мы веслом взмахнем — караван собьем,
Кистенем взмахнем — всех врагов побьем,
А ножом взмахнем — всей Москвой тряхнем!