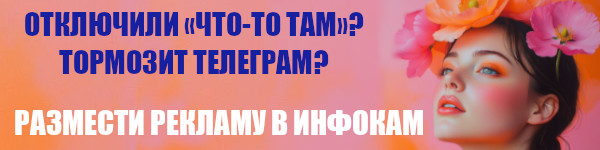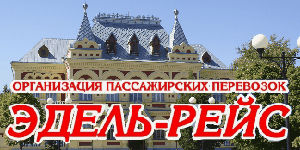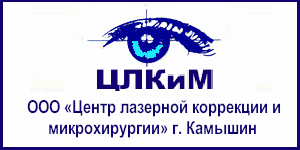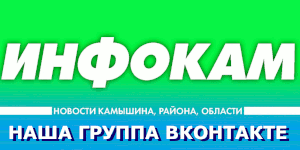«Часовой магазин Гинзбурга привлекал прохожих тем, что в окне лежал золотой лев (часы), который шевелил красным языком и ворочал глазами».
«Часовой магазин Гинзбурга привлекал прохожих тем, что в окне лежал золотой лев (часы), который шевелил красным языком и ворочал глазами».
Д. Гольман «Камышин начала века»
Конец века. Камышин.
Александр Нилыч с поэтической грустью в глазах смотрел в окно на осенние капли дождя, сбивающие с деревьев последние золотые листья, когда в eго квартиру, как всегда нежданно-негаданно, ворвалась дочь.
— Папа, — с французским ударением на второй cлог с порога воскликнула она, — тебе презент. Ты просто обалдеешь!
Александра Нилыча немного покоробило соединение иностранного слова «презент» с русским сленгом «обалдеешь», однако же он любил свою дочь, а потому прощал ей и не такие словесные изыски. Он лишь довольно улыбнулся, а дочь во всегдашней спешке, удвоенной к тому же неподдельной радостью, выгрузила на стол коробку и принялась ее распаковывать.
— Сейчас-сейчас, — стягивая с чего-то бесформенного хрустящую обертку, комментировала дочь. — В Саратове по случаю у антиквара купила… Смотри же!
На столе перед Александром Нилычем словно по мановению волшебной палочки возник золотой лев — царь зверей, по своей природной сущности, и — искусно сделанные часы, по замыслу гениального автора. Стрелки ходиков стояли на месте, отчего движущиеся в такт им глаза и язык замерли, и лев, расплывшись в улыбке, искоса и лукаво уставился на своего нового владельца. При виде подарка что-то неуловимо далекое промелькнуло в сознании Александра Нилыча, нечто странное — у него даже кольнуло сердце, а речь как-то сразу смазалась и стала бессвязной.
— Ну, зачем ты… — промямлил он с хрипотцой в голосе. — Это же, несомненно, очень дорогая вещь — раритет… — И вдруг добавил: — А потом, ты же знаешь, старикам не принято дарить часы. А мне как-никак через три года — сто…
Нужно сказать, что Александр Нилыч неизвестно отчего всячески избегал произносить цифру «девяносто семь», — видимо, ему легче было так жить, хотя почем знать. Но на дочь все вышесказанное не произвело никакого впечатления.
— Не принято дарить дешевые наручные! — резко ответила она, однако тут же смягчилась и уже с русским ударением произнесла:
— Папа… Это прекрасный подарок, и ты сам знаешь об этом… Все, бегу!
Дочь, чмокнув отца в щеку, в тот же миг исчезла из квартиры: ее ждали товары, перевозки, экспедиторы — словом, весь ее с мужем торгово-закупочный бизнес, давно уже связавший три соседние области в единое поле их деятельности.
Александр Нилыч, еще раз взглянув на льва, бросил куда-то в воздух: «Да-да, хороший подарок», — и вновь уселся в любимое кресло у окна. Нескончаемый дождь, как подумалось ему, должен был успокоить расшалившиеся за последнее время нервы. Лишь вечером он снова обратил свой взгляд на часы. Взяв ключик, он повернул его несколько раз вокруг своей оси в специальном отверстии и замер, ожидая почему-то музыки, а не движения. На мгновение что-то во второй уже раз за день пронеслось у него в голове и царапнуло сердце, пока лев, как и было ему положено мастером, не заворочал глазами и зашевелил языком. Время начало свой бег.
Утром следующего дня Алексей Нилыч впервые за последние десять или пятнадцать лет — кто теперь вспомнит? — передвинул кресло от одного, любимого, окна к другому. Объяснение тому было простое: он хотел держать в поле зрения и вид из окна, и льва, не утруждая себя при этом разворотом на сто восемьдесят градусов, как это приходилось делать у «того», теперь нелюбимого окна.
Александр Нилыч грезил, и грезы эти были прекрасны. Там, во дворе, где бежали мутные потоки и собирались пузырившиеся от дождя лужи — все стремилось к будущему, к заснеженной зиме, а здесь, в доме, где было тихо и уютно, а главное, негромко тикали часы — все уходило в прошлое, в теплое лето…
— Моему папе на двадцатипятилетие усердной службы сослуживцы обещались вон те часы подарить, с музыкой, фирмы «Мозер»! — десятилетний Сашка, уткнувшись носом в стекло витрины магазина Гинзбурга, тыкал пальцем в огромные часы. — Они и Луну показывают, и Солнце.
Его друг и ровесник Алешка, хихикая от души, корчил рожи и ехидно замечал:
— Старику Нилу? За что? За протирку штанов?
Завязывалась драка, и пролетавший мимо извозчик матом прогонял прочь с дороги дерущихся, клубком выкатившихся на нее.
Александр Нилыч улыбался в полудреме, забывал про остывающий обед или ужин и, предварительно взглянув на льва, вновь уходил в мир одному ему ведомых грез.
— Вот моему отцу, — чинно говоривший Алешка даже не липнул к витрине, а надменно указывал на нее с расстояния шага, — подарят вот этого льва!
— Да ну? Прямо отсюда и возьмут? — удивлялся Сашка. — И что же, пустое место останется?
— Дурень ты! Заказ сделают на такого же. А с витрины нельзя. Это реклама. Слово такое знаешь?
— Конечно.
— Ври! — и снова драка в пыль.
Дни шли за днями, менялся за окном пейзаж, но Александр Нилыч совсем уже не обращал на это внимания: что тут вокруг — так, скукота одна. Зашедшая однажды дочь была очень удивлена, даже поражена трем простым словам отца, произнесенным им в какой-то замысловатой и не запомнившейся ей речи: «…девяносто семь лет…». «Хандрит», — подумала она и задержалась в этот день дольше обычного на десять минут. Лев отмерил это время положенным количеством движений глаз и языка. Заметил это и Александр Нилыч: он улыбнулся, а затем, хлопнув себя по детской привычке по коленкам, поспешил в свое кресло.
Он вновь хотел возвратиться туда, где все было весело и радостно, где еще не было автомобилей и будущее представлялось в самом прекрасном свете. Именно свете… Он хотел увидеть солнце и ощутить тепло…
Но пришел холод и мрак.