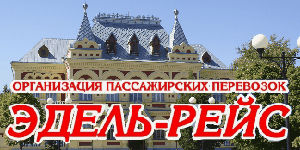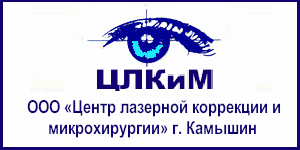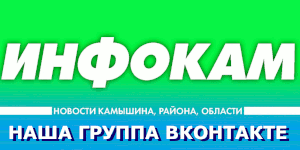Колокольная музыка лечит. В этом убежден камышанин Федор Кузнецов — единственный в области дипломированный звонарь.
Колокольная музыка лечит. В этом убежден камышанин Федор Кузнецов — единственный в области дипломированный звонарь.
— Многие думают, — рассуждает Федор Кузнецов, — что колокола — это просто, как говорится, погремели, постучали… На самом деле это божественный инструмент, звук колокола — та же музыка! На колоколах надо играть, выговаривать. Ведь колокола умеют говорить. Они даже перекликались между собой, когда в старину во множестве церквей в колокола звонили одновременно…
Федор, наследник Иоанна
В наше время далеко не каждому известно, что в не столь уж давнем прошлом, лет двадцать примерно назад, колокольный звон был в нашей стране запрещен как пропаганда религиозного дурмана. И возрождаться он начал в Поволжье не со знаменитого на весь мир Волгограда, не со старинного Саратова, а с небольшого городка Камышина. Здесь в некогда кладбищенской Свято-Никольской церкви впервые за несколько десятилетий ударил в колокола в 1985 году бывший ее настоятель отец Иоанн (Матвиенко), прослуживший в ней тридцать пять лет. Благодаря его усилиям и появилось целое собрание старинных колоколов: ездил, разыскивал те редкие, что сохранились, по хуторам, по станицам. Есть здесь теперь колокола зазвонные, есть средние и есть большие — как голоса в хоре. Была надстроена в Камышине и колокольня. А через некоторое время после безвременной кончины Иоанна все это звонарное хозяйство перешло в руки Федора Кузнецова.
Федор Вадимович — донской казак. Человек верующий, но не церковный, не относится к числу священников. Музыку в Камышине преподает. Консерваторию в Саратове окончил, учился на руководителя народного хора у профессора Александра Ярешко. Александр Сергеевич, редкостный энтузиаст и ценитель колокольного звона, уже в ту пору возглавлял Ассоциацию колокольного искусства России (АКИР). Не на шутку увлекся этим искусством и студент Кузнецов, ставший одним из первых учеников профессора по колокольному звону.
Теперь Федор Вадимович — авторитетный мастер колокольного звона, единственный на сегодня в нашей области дипломированный специалист по этой части, обладатель удостоверения за номером два, дающего право носить это громкое звание.
Не разрушает, а лечит
— Многие почему-то считают, что звон глушит, — делится с нами в беседе Федор Вадимович. — Да, в какой-то мере это есть. Но колокольный звон не разрушает психику, а лечит. Иные медики, психологи даже приписывают этот звон больным, чтобы, отдыхая, они его слушали. Бывает, я и сам прихожу в церковь уставший, перенервничавший. Но поднимусь на колокольню, начинаю звонить… и успокаиваюсь! В Ростовской области исследование проводили: взяли пробу воздуха после того, как в колокола отзвонили. Он оказался настолько стерилен, что впору было делать операции больным!
— Федор Вадимович, а какие бывают виды колокольного звона?
— Знаете, как одна песня в разных регионах звучит по-разному, так же и с колокольным звоном: на севере он один, на юге — другой, более сильный, темпераментный, а на западе — третий… А вообще-то звон бывает будничный, праздничный, красный, пасхальный, погребальный, малиновый... (Название последнего, как это ни покажется кому-то странным, исходит от бельгийского города Мехелен.) Есть также встречный звон, когда кого-либо встречают. Сам звон зависит от того, какие колокола задействованы. Если он, например, праздничный, то звучат все колокола, от мала до велика. Обычный, будничный — задействованы только те колокола, что поменьше. Благовест — звон в один колокол: благая весть!
Зазвонит ли Царь-колокол?
В старину, как нам поведал Кузнецов, каждый колокол имел свое особое предназначение. Уже по тому, что именно он зазвучал, люди определяли, что случилось. Один колокол звонил, к примеру, если настала тревога, беда, другой был, чтобы бить в набат… Были и колокола, в которые били в метель, чтобы путники, идя на звук, в степи не заблудились. Иные из колоколов даже имеют имена, причем давал их им, как людям, сам народ. До нашего времени, например, сохранились такие именитые колокола, как Сысой, Лебедь, Благовестник…
— Федор Вадимович, ну а Царь-колокол, если поднять его на колокольню, смог бы сейчас звонить?
— Раз Бог не дал, значит, этим все сказано. Любой колокол, если он лопнул, никаким ремонтам, реставрации не подлежит, его возможно только переплавить. А что касается Царь-колокола — учеными произведены расчеты и доказано, что, если бы в него и удалось ударить, звук получился бы настолько низкий, что люди его попросту не услышали.
 — Значит, чем тяжелее колокол, тем ниже он звучит?
— Значит, чем тяжелее колокол, тем ниже он звучит?
— И это не совсем так, иной небольшой колокол может звучать ниже тяжелого. Это от толщины его стенки зависит. Стенка толстая — колокол ниже звучит, тонкая — выше… Но слишком тонкой сделать ее тоже нельзя: лопнет, когда ударишь. А если чуть переборщил, толще, чем надо, стенку сделал — звук потеряется. Тут надо золотую середину отыскать.
Влияет, конечно, на звучание колокола и то, из какого металла он был изготовлен, каково соотношение металлов в сплаве. Так, если в России, например, колокола традиционно отливаются из бронзы, то в Германии — из чугуна. Да и звонят за границей совсем по-другому: если российские звонари за язычок дергают, то зарубежные сам колокол раскачивают, ударяя им при этом об язык. В России, впрочем, тоже есть подобные колокола, но только в древней Псково-Печерской лавре. Сам этот звон с незапамятных времен был прозван на Руси очепным звоном.
Музыка исходит от любви
— Федор Вадимович, конечно, многого в одной беседе не расскажешь. Но все же приоткройте нашим читателям какие-либо тайны, секреты мастерства колокольного звона.
— Если звонарь любит колокола и сам он чист душой — будет и музыка… Просто так никакой колокол не зазвучит, если не почувствует к себе соответствующего отношения. Вот говорят: «Колокола громко звенят». Извините, но там тоже есть динамика: можно бить в колокол громче, а можно и тише… Все почему-то считают, что чем сильнее ударишь в колокол, тем звук будет громче. Это тоже не так. Надо чувствовать, куда сила удара направлена — на созидание музыки или на разрушение. Можно ведь сильно ударить от злости, а можно также бить и от любви, как будто друга по плечу похлопаешь.
А сам я такой, как и все звонари, нет у меня каких-либо особенных секретов. Есть в России звонари и лучше, мне приходилось встречаться, общаться…
Есть ли предел для совершенства?
— Интересно, а в нашей Волгоградской епархии есть еще, кроме вас, квалифицированные звонари?
— Я, если честно, не встречал. Если б нашелся такой, с удовольствием пообщался бы. Я в Волгограде был, смотрел ребят… Нет, это все-таки не мастера! Хотя есть среди них и такие, что бьют себя в грудь: «Вот, я звонарь, я много знаю и умею!». А я вам прямо заявляю: я еще очень многого не знаю! Мне еще очень много надо познавать, многому надо учиться. Поскольку нет границ для совершенства…